Президент Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом так называемого «вольного приноса», который позволит физлицам заниматься разработкой золотых месторождений.
«Наверное, вы правы. Надо это сделать», — заявил Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в ответ на соответствующий вопрос. «Люди работают там индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно. Отвалы большие, там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся.
И «хватать и не пущать», все запрещать — это неправильный путь. Мы уже это проходили в свое время. Это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно. Должна быть, видимо, ответственность реальная наступать за серьезные нарушения.
Но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать», — подчеркнул президент.
Необходимо сделать таким образом, чтобы это не нарушало прав других. «Давайте поработаем, сделаем это. Вот я Юрия Петровича попрошу. Юрий Петрович, поработайте с коллегами, пусть сформулируют предложения», — обратился президент к вице-премьеру, представителю президента в ДФО Юрию Трутневу.
Вопрос о «вольном приносе» задал президенту Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна «Арбат».
«Есть одна очень большая серьезная проблема, она уже много лет обсуждается, к сожалению. В Государственной думе лежит десять лет законопроект о «вольном приносе». Как бы глаза ни закрывали на это, вольный принос уже давно есть. Только он незаконный», — пояснил Басанский.
В качестве примера Басанский привел недавно приобретенный участок, на котором, как оказалось, «уже моют» золото «черные копатели». «Хорошо, вовремя позвонили в соответствующие органы, вылетел вертолет «Ми-8.», — отметил Басанский. «Вот видите, органы иногда нужны», — ответил президент.
«Черных копателей» много, продолжил Басанский: «Там мышей, видимо, меньше в тайге, чем этих старателей. То есть везде есть. Эта проблема существует».
Между тем обычная кража предусматривает более суровую ответственность, чем незаконная разработка недр, подчеркнул Басанский. Если незаконно добыть золота меньше чем на 2 млн руб., то штраф составляет всего 5 тыс. руб.
Басанский попросил Путина дать поручение доработать нормативные и законодательные акты по «вольному приносу». «С уважением пойти навстречу тем, кто хочет работать, но в то же время ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. Хочешь работать — работай, но нарушил — отвечай не за 5 тыс. руб.», — заявил Басанский.
Предприниматель пригласил Путина в Магаданскую область попытаться намыть золота. «Я не буду говорить «лучше вы к нам». Я приеду», — вспомнил советскую киноклассику Путин. «Не будете обращаться в соответствующие органы?» — пошутил президент в ответ на предложение попытать удачу в качестве старателя.
Законопроект о «вольном приносе» обсуждают давно, вопрос вызывает жаркие споры. В первом чтении законопроект принят еще в 2011 г., с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.
Источник: Вести Экономика
Источник: investfuture.ru
«Вольный принос — это узаконенное воровство золота»
Как известно, в апреле текущего года Минприроды России опубликовало законопроект, регулирующий деятельность частных старателей. Сейчас документ проходит этап публичных обсуждений, но большинство участников отраслевого рынка уже давно сформулировали своё отношение к инициативе узаконить вольный принос золота. Это и стало темой нашего интервью с руководителем одной из самых известных артелей Амурской области — «Восток-1» Романом ЛОМАКИНЫМ.
 И так добывают
И так добывают
— Роман Владимирович, что вы думаете о вольном приносе золота?
— У нас в регионе вольный принос всегда процветал. Правда, он является теневым, но от этого не легче. В результате «чёрные старатели» добывают в тайге тонны золота, которое уходит либо напрямую за границу, в соседний Китай, либо его легализуют через фирмы, созданные предпринимателями из Закавказья. Впрочем, у нас кавказские и китайские бизнесмены нередко работают в единой смычке.
Первые, обладая российскими паспортами, создавали золотодобывающие организации и приобретали на аукционах лицензии. И делали это, как правило, на китайские деньги, после чего запускали на свои участки граждан КНР под 30% «откупных». Скажу больше: на зарубежные средства нередко покупается такая техника, которая есть далеко не во всех артелях, работающих в Приамурье десятилетиями.
Золотодобыча у теневиков процветает до сих пор. Ведь если мы, легальные старатели, скованы множеством технических, технологических, экологических и других регламентов, соблюдение которых строго контролируется представителями надзорных органов, то вышеозначенные фирмы не связаны ничем. Никто их не проверяет.
В итоге золото они до сих пор моют непосредственно на прямотоках, нанося непоправимый вред нашей природе. Но это я говорю о тех, кто хотя бы работает в рамках лицензий. А сколько по тайге бродит «чёрных копателей», добывающих металл безо всяких бумаг! До недавнего времени многие граждане КНР въезжали в Приамурье по торговым визам и спокойно мыли золото.
Мы даже помогали сотрудникам ФСБ находить таких «старателей». Но на их выдворение за пределы России у государства порой не находилось средств. Благо, сейчас в связи с COVID-19 граница с КНР закрыта, и нелегальных золотодобытчиков стало намного меньше. Но вот фирмы, организованные на китайские деньги, никуда не делись — они так и продолжают добывать металл.
Я к чему всё это в очередной раз рассказываю? Если уж безо всякого закона о вольном приносе мимо государства тонны золота рекой текут, то страшно даже представить, что будет, если этот нормативный акт всё-таки примут.
— Вы не раз озвучивали все эти проблемы, причём как в СМИ, так и на различных отраслевых площадках. Но ведь вы руководите серьёзной артелью, у которой солидные добычные объёмы. Вам-то как мешают «чёрные старатели»?
— Что значит — как мешают? Во-первых, ресурсы у нас и так истощаются. Неслучайно мы сейчас работаем на техногенных образованиях. А во-вторых, я на этой земле живу и работаю. Я с ней в прямом смысле душой связан. И это не просто слова.
Вот вам пример: я очень люблю рыбалку, для меня это лучший отдых, и мне больно смотреть, как уничтоженная благодаря «чёрным старателям» мёртвая рыба брюхом кверху плывёт по реке. Это лишь один маленький, но показательный штрих.
Отлаженная система
— Если говорить о незаконной скупке золота в настоящее время, то насколько отлажен этот процесс?
— Он не просто отлажен — он функционирует в течение многих лет и даже десятилетий. У нас даже термин такой существует… ну, скажем, «Кавказ-золото». Кто в курсе дела, тот поймет. Там действует целая преступная индустрия — «чёрные копатели» и скупщики прекрасно знают друг друга. Первые добывают металл, вторые у них его покупают в любое время.
Бизнес прибыльный, конечно, но и криминальный.
— Да, ваши коллеги в Магаданской области рассказывали, что «чёрные старатели», приносившие скупщикам серьёзные объёмы золота, нередко просто пропадали без вести.
— И у нас такое бывает. Я же неслучайно подчёркиваю криминальный характер этого бизнеса, хотя ещё до революции он был легальным. Мой дед, например, в те далёкие годы возил шлихи на продажу. Но при этом золото реализовывалось только через скупочные конторы. А сейчас это откровенно теневые, криминальные схемы.
— Управу на них найти нереально?
— А какая управа? Раньше за любые действия, связанные с незаконным оборотом золота, предусматривалось до семи лет лишения свободы. С конфискацией имущества, кстати. Сейчас же самая распространённая санкция — административная, то есть штраф. Ну и кто станет бояться копеечных штрафов, если на кону многие миллионы?
Нет порядка…

— Так, может, узаконенный вольный принос и позволит вывести бизнес из тени?
— Нет, не позволит, потому что нет самой основы для такой деятельности. Вольные старатели должны будут работать на нелицензионных участках, то есть на некондиционных объектах. Как же государство проконтролирует, сколько золота там было добыто и добывалось ли оно вообще? Там же официально нет никаких запасов. И получается, что механизм вольной добычи никак не прописан, как не прописан и механизм скупки металла.
— А здесь в чём проблема?
— Ну, давайте начнём с главного: кто станет скупать золото у вольных старателей? Нам говорят: этот процесс будут организовывать органы местного самоуправления. А каким образом? Золотодобыча — процесс сложный. Чтобы в нём разбираться, в отрасли нужно работать годами. В администрациях районов что, есть соответствующие специалисты? Нет, конечно!
Так кто организует квалифицированную скупку? Замглавы по экономике? Сам глава? Об этом авторы законопроекта даже не удосужились подумать. Далее: где будут находиться скупочные конторы? Ведь золото — стратегический ресурс, для его хранения необходимо соблюдать строгие условия.
Как их выполнит районная администрация, коль скоро даже для нас соответствующие требования постоянно меняются? То же самое относится к транспортировке металла. Это специфичный процесс, и он так же не регламентирован. Та же история со сдачей золота на аффинаж и его последующей реализацией. Эти процедуры тоже не прописаны.
Не прописано и то, каким образом в тайге может работать вольный старатель. В одиночку? Но это запрещено техникой безопасности. Однако возьмём ещё один ключевой момент — цену на золото. Кто её определит?
Районная администрация?
— Но ведь есть, например, курс Центробанка?
— Так там речь идёт о химически чистом золоте, а сдавать будут шлиховое. И как чиновники вычислят эту разницу? Видите, сколько здесь нестыковок. Авторы законопроекта не удосужились даже предусмотреть более или менее очевидные нюансы. А там есть ещё множество подводных камней, которые пока не видны, но они обязательно станут камнями преткновения.
…и нет контроля
— А кто станет контролировать вольный принос?
— Вот! Ещё одна проблема! Я ведь неслучайно в начале нашего разговора сказал, что у государства зачастую не получается даже контролировать процессы, связанные с «чёрными старателями». А как это сделать в случае с вольным приносом, законопроект о котором в своей нормативно-правовой основе откровенно сырой?
Например, в нём предусмотрено, что частный старатель вправе использовать только средства малой механизации мощностью не более 50 лошадиных сил. Знаете, мне и грустно, и смешно, когда я об этом слышу. Кто у них эту технику проверять станет, коль скоро сейчас даже давно работающие артели Ростехнадзору не подконтрольны? Снова администрация, что ли? Но это лишь одна сторона медали.
Есть и другая — если добывать золото без специальной техники, например без насосного оборудования, это приведёт к добыче на прямотоке. Проще говоря, к серьёзному загрязнению рек, которые и так уже сильно пострадали из-за «чёрных копателей» и недобросовестных старателей. А возьмём в качестве примера объёмы вольной добычи.
Предполагается, что каждый частник может добывать не более десяти килограммов металла. Оформил по упрощённой схеме патент — и пошёл мыть золото. Так вот я почти уверен: в разы вырастут именно теневые объёмы — и не добычи, а воровства. В первую очередь потому, что действующая ОПГ — это, повторюсь, целая индустрия.
Что помешает криминалу оформить сотни таких разрешений, каждое — на 10 килограммов? И в итоге опять-таки тонны металла уйдут налево. Ворованного металла! Ведь легально добыть 10 килограммов золота только средствами малой механизации, да ещё и на техногенных участках, нереально. Соответственно, добываться оно будет лишь на бумаге, а на самом деле его будут просто воровать.
— И контролировать всё это невозможно?
— Думаю, пока нет. Я даже не беру в расчёт элемент коррупции. Это тема отдельного разговора. Но факт остаётся фактом — контроль в отрасли и сейчас слабый, под надзор попадают только давно работающие предприятия, типа нашего. Нас же проверять проще простого — вот организация, вот её офис, вот директор, вот вся документация.
Мы совершенно открыты, работаем здесь в течение многих лет, а до теневиков у контролёров руки зачастую не доходят.
Не добывать, а воровать

— Вы сказали, что при вольном приносе вырастут теневые объёмы не столько добычи, сколько воровства. У кого будут воровать золото?
— У нас в артелях, конечно же, да и на других легально действующих золотодобывающих предприятиях.
— А это возможно — украсть металл на предприятии?
— При, скажем так, грамотной постановке дела — вполне. Конечно, у нас соблюдаются все охранные стандарты. Я сейчас имею в виду и нашу артель, и другие отраслевые организации. Но опытный вор всегда найдёт лазейку. Поэтому, думаю, вольный принос приведёт к тому, что воровать станут именно на предприятиях и на эти же предприятия понесут украденное.
Дескать, вот моё разрешение — добыл, как и положено, пять, семь или десять килограммов золота, прошу принять. Ведь и сейчас многих нечистых на руку граждан останавливает от краж только отсутствие легальной скупки металла. Нести его на продажу представителям ОПГ многие боятся.
Мало того, что ты уже совершил преступление, так рискуешь лишиться и золота, и жизни, а при легализации вольного приноса риски минимизируются. Но это одна сторона медали. Есть и другая. Золото всегда манило к себе не только трудяг-старателей, но и всевозможных маргиналов, в том числе преступников всех мастей. А что?
Вышел такой деятель из колонии — куда ему деваться? На работу возьмут далеко не везде, а тут такая возможность обогатиться. И вот вся эта криминальная армада ринется в наши города и посёлки. Можно только представить возможный разгул преступности.
— Председатель Союза старателей России Виктор ТАРАКАНОВСКИЙ в своём письме председателю комитета Торгово-промышленной палаты Михаилу ДЯГИЛЕВУ также акцентировал внимание на возможной криминализации золотодобычи. Он подчеркнул, что в период 1956–1978 годов, когда вольный принос в Магаданской области был разрешён, многие старатели перестали заниматься добычей металла, а перешли на воровские схемы. Плюс ко всему появилась законная база для работы нелегальных скупщиков. Вы именно этого опасаетесь?
— Разумеется, Виктор Иванович абсолютно прав. Мы, кстати, работаем в контакте с Союзом старателей России и по ключевым вопросам имеем общее мнение. Поэтому я полностью согласен — всё это может привести к криминализации золотодобывающих районов страны, со всеми негативными и далеко идущими последствиями.
Одни минусы
— Получается, ничего, кроме вреда, вольный принос не принесёт?
— В сегодняшних условиях — нет. Пока мы рискуем получить узаконенное воровство золота на предприятиях, разгул преступности в наших городах и посёлках, удар по экологии и, как следствие, увеличение уровня коррупции. Ведь где появляются дополнительные возможности для обогащения, там всегда процветает коррупция. Но это наиболее очевидные минусы. Есть и другие риски.
— Какие?
— Не секрет, что уровень нагрузки на муниципалитеты довольно большой. Полномочий у них много, ответственности ещё больше. Не хватает только квалифицированных специалистов и денег. Так вот, если районные администрации обяжут ещё и вольный принос золота организовывать и контролировать — они, образно говоря, задохнутся.
— Видимо, не нужно забывать, что вольный принос не избавит от проблемы «чёрных копателей»?
— Да, они как мыли золото нелегально, так и будут мыть. Тем более если речь идёт о вывозе металла в КНР. Так что вольный принос крест на незаконной добыче не поставит, наоборот, он её только простимулирует. Здесь есть лишь один выгодоприобретатель — криминал, который получит дополнительные и очень большие доходы. Этого не скажешь о государстве — оно лишь потеряет доходную часть и уж точно ничего не приобретёт.
— Существует ли сегодня альтернатива вольному приносу?
— Конечно! И это подрядный метод работы. Можно создать ООО и зайти на подряд к крупной отраслевой компании. Как правило, у серьёзных предприятий есть лицензионные участки, на которых содержатся те же 10, 15, 20 килограммов металла. Самим им загонять туда технику и завозить людей не особо выгодно, а подрядчикам — вполне.
Только если это нормальные старатели, заинтересованные в реальной золотодобыче.
— Ну а, допустим, если обычный человек, не предприниматель, захочет получать стабильный доход от золотодобычи?
— Какие проблемы? Если кто-то умеет работать в нашей отрасли, значит, он не дилетант. Так пусть устраивается в любую известную артель и спокойно трудится. Как правило, зарплаты во всех серьёзных отраслевых организациях хорошие, условия труда — тоже. При этом кадровый дефицит на всех золотодобывающих предприятиях в той или иной степени присутствует.
Поэтому опытному специалисту везде будут рады, и достойную зарплату он получит в любом случае.
— Давайте подытожим: вольный принос разрешать не следует?
— Пока нет прозрачного закона, строго регламентирующего все составляющие такой деятельности, а также пока отсутствует качественный контроль за ней, вольный принос нельзя разрешать ни в коем случае. Более того, нужно ужесточать ответственность за незаконный оборот драгметалла, вплоть до риска попасть в тюрьму на долгие годы. Такая необходимость уже давно назрела.
Беседовал Александр МАТВЕЕВ
Источник: nedradv.ru
Выяснилось, кто «незаконно мыл золото» на рыболовных угодьях ненцев

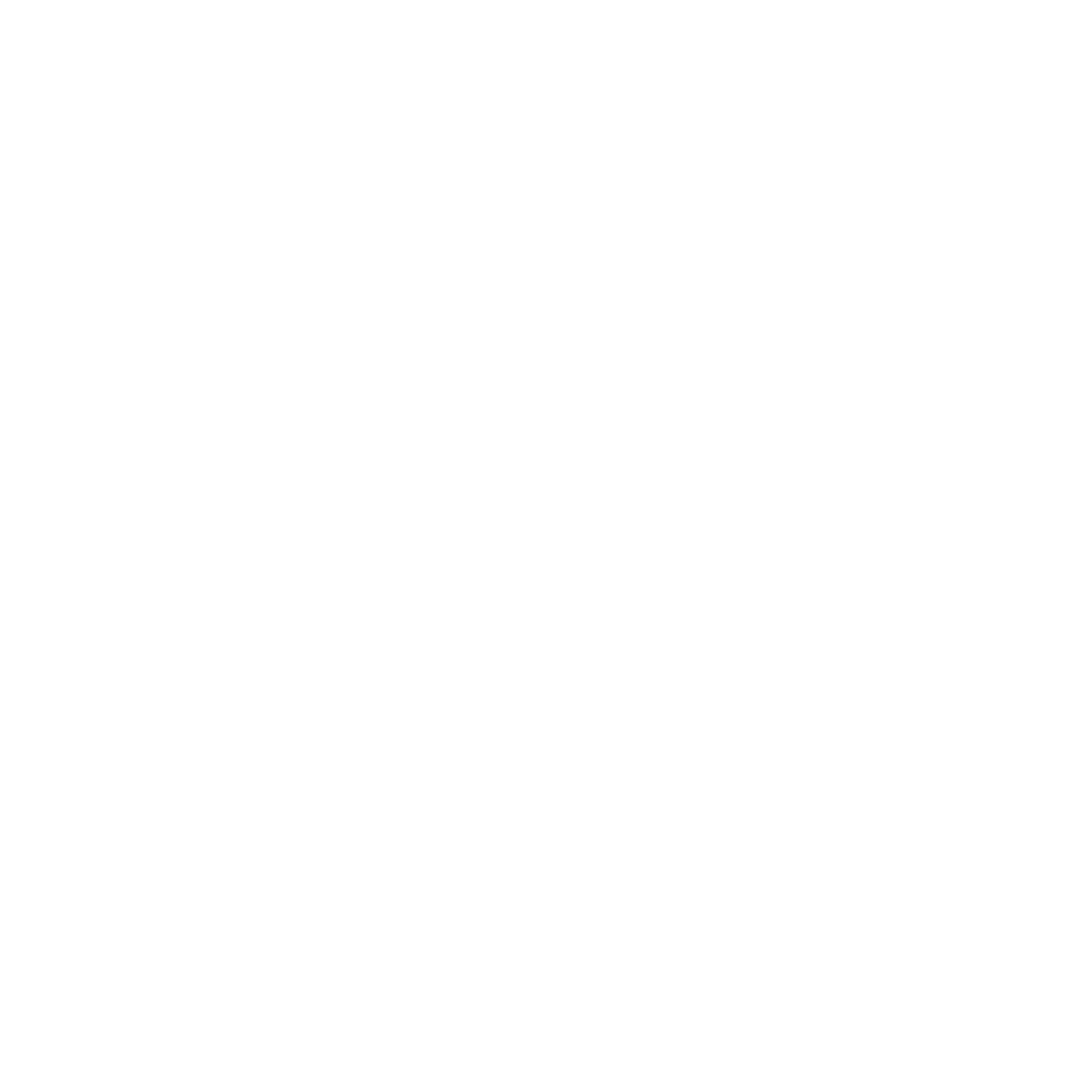
Например, пару месяцев назад, из Тазовского района ЯНАО поступило сообщение и несколько фото. Неравнодушный читатель-рыбак с реки Таз сообщил, что кто-то «незаконно моет золото» рядом с его рыболовными угодьями, используя большой агрегат наподобие таких, какие он видел в фильме про золотую лихорадку на Аляске.
Выяснить, кто и что моет в Тазу, по горячим следам не удалось. Но на днях из Ярославля пришло письмо, рассказывающее о результатах научной экспедиции студентов и преподавателей на реку Таз. Вот тут то и стало понятно каких «золотоискателей» видел наш рыбак.
Экспедиция ярославского университета работала нынешним летом на территории древней Мангазеи и Тазовского городка. О ней есть много интересного материала, но лучше всех расскажет её участник — преподаватель ЯрГУ имени П. Г. Демидова Илья Дмитриевич Горшков.

Преподаватели кафедры регионоведения и туризма ЯрГУ имени П. Г. Демидова разработали новый учебный курс «Организация экспедиционной деятельности», который получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина. Благодаря этому студенты исторического факультета смогли отправиться в экспедицию в Заполярье, организованную научно-производственным объединением «Северная археология-1» (г. Нефтеюганск). Целью экспедиции было исследование Тазовского городка — небольшого укрепленного средневекового поселения на реке Таз, древнем водном пути освоения Северной Сибири.

Во время раскопок студенты использовали метод промывки. Для этого они сконструировали специальную машину — «вашгерд». Перебирать промытый грунт приходилось вручную, чтобы не пропустить ни одной, даже самой небольшой по размерам находки.
Студенты трудились ежедневно с 08:00 до 18:00. В экспедиции у всех есть свои обязанности: кто-то занимался раскопками, а кто-то обеспечивал группу питанием, водой и топливом.
— Мы решили, что работать по часам: 50 минут работаем, 10 минут отдыхаем. Кроме этого, мы делали перерыв на обед, а после вновь возвращались к раскопкам. Вечером у всех было свободное время. Кто-то ходил за грибами и ягодами, кто-то сразу же ложился спать. Сам я любитель рыбалки, поэтому в свободное время часто ходил на реку со спиннингом.
Рыбалка на Тазе просто изумительная: щуки весом по 5–10 килограмм здесь не редкость.
Путешественники разместились в палатках и отдельно оборудовали полевую кухню и столовую, а также баню.
Основу питания традиционно составляли различные консервы, а также крупы и макароны. На завтрак готовили молочную кашу с чаем или кофе, на обед — суп, на ужин обязательно блюда с мясом или рыбой.
— Питание в нашей экспедиции было организовано на очень высоком уровне благодаря профессионализму людей, которые этим занимались. В рацион входили свежие овощи — лук и капуста, что крайне важно для условий Заполярья. Особым спросом пользовалось «блюдо от шеф-повара» — так называемые «крупники» — жареные лепешки из оставшейся от завтрака каши.
Когда появлялось свободное время, ребят тянуло на приключения. Вдоль реки Таз практически нет местных жителей. Редко встречаются поселения ненцев, которые встают здесь на рыболовный сезон. На один из таких поселков наткнулись участники экспедиции.
— Когда мы пришли в их поселение, то увидели больше десятка чумов. У каждой семьи свой чум, баня, место для приготовления и приема пищи, а также телевизор со спутниковой тарелкой.
Несмотря на то, что ненцы до сих пор придерживаются своих традиций, отставать от современного мира они не намерены. На стойбище был даже свой «Дом культуры»: большой разборный шатер, который привозят сотрудники администрации Тазовского района. Внутри есть бильярдный стол, настольный теннис, телевизор, музыкальная аппаратура, разнообразные материалы для детского творчества — пластилин, краски, бумага, фломастеры, карандаши.
— Интересно, что даже маленькие дети там разговаривают по-русски. Я встретил двух девчушек, они сидели на берегу реки и о чем-то своем спорили, и я понимал их. При этом одна из женщин, скорее всего, их бабушка, говорила с ними на ненецком.
Заполярье часто ассоциируется с суровым климатом. Студенты ощутили это на себе: когда они только приехали, стояла тридцатиградусная жара, а уже через несколько недель температура воздуха опустилась до десяти — тринадцати градусов, поднялся холодный ветер и начал моросить дождь. Однако ни на график, ни на интенсивность работы погодные условия не повлияли.
— Удивительно, что никто из нас не простудился, хотя с середины августа заметно похолодало, особенно это ощущалось ночью. Из припасенных лекарств нам пригодился только пластырь.
Каждый свой поход Илья Дмитриевич помнит по дням. Эту экспедицию он ждал с нетерпением, так как в прошлом году из-за пандемии все выездные мероприятия с участием студентов были запрещены. Неблагоприятные погодные условия, сложности в работе, непредвиденные обстоятельства не смогли испортить впечатление от поездки.
После того, как раскопки были завершены, студенты отправились на место, где стояла легендарная Мангазея — первый русский заполярный город, основанный по указу Бориса Годунова в 1601 году. Город быстро разбогател на торговле пушниной, а затем так же быстро пришел в упадок из-за падения спроса на меха и перемещения на юг сибирских торговых путей.
— Я бы вернулся туда еще раз. Если бы мне только предложили участие в экспедиции в Мангазею, я бы даже не думал над ответом. Говорят, что в мире есть «места силы». Если это так, то Мангазея, несомненно, одно из них.
Использован текст интервью порталу «Яркуб»
Источник: kmns.ru