В. А. Жуковский вошел в историю русской литературы как автор романтических баллад. Этот жанр унаследован русской поэзией из европейской литературы и связан с фольклором (народной песней, историческим преданием). Большинство баллад Жуковского переводные, но они являются, скорее, не переводами, а самостоятельными литературными произведениями, так как поэт вносит в них нечто свое: новые трактовки образов, иную авторскую оценку, нередко – русский колорит.
История создания
Романтическая баллада «Светлана» опубликована в 1813 г. с посвящением Александре Андреевне Воéйковой – младшей сестре возлюбленной поэта Марии Андреевны Протасовой. Баллада стала популярной, Жуковского часто называли «певцом Светланы».
Произведение Жуковского отсылает читателя к балладе немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора», основанной на немецких народных легендах о мертвом женихе, забирающем к себе тоскующую невесту.
Время действия баллады – современная поэту эпоха. Сюжет произведения фантастический, сказочный, но происходящее – только сон, навеянный атмосферой святочных гаданий. Уже в начале баллады читатель погружается в мир народных поверий и обрядов, сопровождающих русские зимние праздники.
Светлана. Василий Жуковский
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Башмачок. бросали — считалось, что жених придет оттуда, куда будет указывать носок упавшего башмачка.
Снег пололи — отыскивали спрятанное в снегу кольцо.
Под окном слушали — девушки ходили слушать под окна чужих домов. По характеру ведущейся в доме беседы — благостному или напряженному — определяли, какой будет судьба юной женщины.
Кормили cчетным курицу зерном — петуха или курицу кормили определенным количеством зерен: склюет всё — выйдет девушка замуж в этом году, а не склюет — считали оставшиеся зерна и предсказывали, сколько лет осталось до свадьбы.
Ярый воск топили — свечные огарки растапливали и выливали в миску с холодной водой. По очертаниям застывшего воска предсказывали будущее.
В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны — девушки опускали кольцо или другое украшение в воду и вглядывались в отражение: в нем должен был проступить образ суженого.
Песенки подблюдны (подблюдные песни) — русские обрядовые песни из 4 — 6 строк, исполнявшиеся во время святочных гаданий и в символических образах предсказывавшие будущее. Например, если в подблюдной песне пелось о коте и кошке («Зовет кот кошурку // В печурку спать» — примечания Пушкина к «Евгению Онегину»), курице и петухе, двух голубях, то это обозначало женитьбу по любви.
Светлана. Жуковский. Слушать аудиокнигу
Светлана тоскует по уехавшему год назад милому другу, от которого нет вестей.
«Как могу, подружки, петь?
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит.
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
Где твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
Ангел-утешитель».
С помощью зеркала и свечи героиня вызывает суженого. Он приглашает ее ехать венчаться в церкви.
Во время поездки с женихом в санях девушка замечает необычную, тревожную атмосферу происходящего. Героиню удивляет и настораживает молчание суженого, его унылое настроение.
Скачут. пусто всё вокруг,
Степь в очах Светланы:
На луне туманный круг;
Чуть блестят поляны.
Сердце вещее дрожит;
Робко дева говорит:
«Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
Бледен и унылый.
Вещий — предвидящий будущее, пророческий.
В храме влюбленные видят множество людей, яркий свет и черный гроб: происходит не венчание, а отпевание покойника. Начинается метель, кони несут героев дальше. Черный ворон вьется над санями и каркает: «Печаль!» В поле виден огонек — это избушка, «хижинка под снегом». Вдруг кони, сани и жених пропадают.
Брошенная, испытывающая страх Светлана не может воротиться, крестится и, постучав в дверь, входит в избушку.
Героиня видит гроб, накрытый белым покрывалом. Трепеща и плача, Светлана опускается перед иконой Спаса, стоящей в ногах гроба, и молится. Притаившись со своим крестом в руке, она видит, что вьюга утихла, слабо — то разгораясь, то потухая — тлеет свечка. Влетает белоснежный голубок, садится Светлане на грудь («перси») и обнимает девушку крылами.
Мертвый шевелится, так что спадает покров и становится видно его лицо с закрытыми глазами — «лик мрачнее ночи». На лбу покойного — венец. Мертвец издает стон и пытается пошевелить холодными руками. Светлане грозит гибель, но голубок вспархивает на грудь покойного и лишает его разрушительной силы. Сверкнув на деву грозными очами, умерший снова застывает.
Светлана узнает в нем своего милого друга и тут же пробуждается.
Освободившись от кошмарного сна девушка снова попадает в реальный мир, но не сразу избавляется от гнетущего ощущения.
Где ж. У зеркала, одна
Посреди светлицы;
В тонкий занавес окна
Светит луч денницы;
Шумным бьет крылом петух,
День встречая пеньем;
Все блестит. Светланин дух
Смутен сновиденьем.
Денница — «утренняя звезда» в славянской мифологии, планета Венера.
Слышен дорожный колокольчик, сани всё ближе. Из них выходит «статный гость» и идет к крыльцу. Это приехал долго отсутствовавший жених Светланы. После «опыта разлуки» он всё так же любит девушку, героиня обретает счастье, молодые готовятся к свадьбе.
Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; все тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты;
Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!
Идея произведения христианская. Она заключается в том, что героиню от темных сил спасает вера в провидение — Бога.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».
Зиждитель — Бог, Господь.
Светлана, чья душа «как ясный день», оказывается неподвластной силам зла. Последняя строфа баллады содержит доброе отношение автора к героине, мысль о важности обретения молодой женщиной, как сегодня сказали бы, базового доверия к миру — стойкой веры в светлые начала жизни,
О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана.
Будь, создатель, ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа как ясный день;
Ах! да пронесется
Мимо — Бедствия рука;
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.
Покров — употребляется в значении «защита».
Национальный колорит. Символика. Новаторство
Баллада «Светлана» стала подлинно русским, национальным произведением, имеет ярко выраженное фольклорное начало. Автор использует стиль народного сказочного повествования, воспроизводит черты русского быта, народные обряды, приводит (в обработанном виде) текст гадальной песни.
В образе главной героини Жуковский намечает характерные черты идеального русского женского типа: верность, кротость, чувствительность, нежность, мягкость, лиричность. Светлана с нетерпением ждет встречи с любимым, но не ропщет, тверда в своей вере. Автор дает ей символическое исконно русское имя. Положительная оценка героини автором очевидна: поэт называет ее «милой Светланой». Говоря о девичьем мире, Жуковский использует слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «вечерок», «башмачок», «песенки», «подруженьки».
Символика баллады включает в себя преобладающий над темнотой белый цвет, свет (снег, имя героини, мотивы света, свечи, огонька).
Новаторство Жуковского в развитии жанра баллады состоит в том, что, во-первых, поэт создает балладу в русском духе (русское общество после событий 1812 г. переживало национально-патриотический подъем), а, во-вторых, меняет более традиционную для этого жанра трагическую развязку на счастливый финал.
Влияние на последующую литературу
Образ Светланы оказал влияние на образы таких литературных героинь, как Татьяна Ларина и Наташа Ростова. Это подчеркивает их народность – «русскую душу» – и нравственные качества.
Если помните, естественные, доверяющие своим чувствам, героини Пушкина и Толстого тоже пытались гадать на Святки.
Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Разъясняя Онегину, кто из сестер Лариных Татьяна, Ленский сравнивает героиню со Светланой Жуковского. Перекликаются и простонародные имена героинь, и увиденные ими сны. Вот только сон Татьяны оказывается пророческим — в символическом виде изображает ее будущие именины с их навязчивой многолюдностью и трагическую дуэль Онегина и Ленского.
После помолвки с Болконским и его отъезда на год Наташа и ее кузина Соня гадают, зажигая свечи и садясь перед зеркалом. Наташа ничего не может увидеть, и Соня смотрит в зеркало за нее — пытаясь разглядеть князя Андрея. Соня говорит, что рассмотрела лишь «что-то синее и красное» (т. 2, ч. 4, гл. 12). Любопытно, что гадание не обмануло.
Внимательный читатель запомнил, что «синим, темно-синим с красным», «четвероугольным» (как квадрат зеркала) немного раньше (ч. 2, ч. 3, гл. 13) Наташе представлялся именно Пьер Безухов, в итоге и становящийся ее мужем.
Список статей канала со ссылками облегчит вам работу!
Если статья оказалась полезной, ставьте «Нравится», подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии!
Источник: dzen.ru
Светлана
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Тускло светится луна
В сумраке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана.
«Что, подруженька, с тобой?
Вымолви словечко;
Слушай песни круговой;
Вынь себе колечко.
Пой, красавица: „Кузнец,
Скуй мне злат и нов венец,
Скуй кольцо златое;
Мне венчаться тем венцом,
Обручаться тем кольцом
При святом налое“».
«Как могу, подружки, петь?
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит.
Иль не вспомнишь обо мне?
Где, в какой ты стороне?
Где твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
Ангел-утешитель».
Вот в светлице стол накрыт
Белой пеленою;
И на том столе стоит
Зеркало с свечою;
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь, без обмана
Ты узнаешь жребий свой:
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с дверей запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою».
Вот красавица одна;
К зеркалу садится;
С тайной робостью она
В зеркало глядится;
Темно в зеркале; кругом
Мертвое молчанье;
Свечка трепетным огнем
Чуть лиет сиянье.
Робость в ней волнует грудь,
Страшно ей назад взглянуть,
Страх туманит очи.
С треском пыхнул огонек,
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.
Подпершися локотком,
Чуть Светлана дышит.
Вот. легохонько замком
Кто-то стукнул, слышит;
Робко в зеркало глядит:
За ее плечами
Кто-то, чудилось, блестит
Яркими глазами.
Занялся от страха дух.
Вдруг в ее влетает слух
Тихий, легкий шепот:
«Я с тобой, моя краса;
Укротились небеса;
Твой услышан ропот!»
Оглянулась. милый к ней
Простирает руки.
«Радость, свет моих очей,
Нет для нас разлуки.
Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами».
Был в ответ умильный взор;
Идут на широкий двор,
В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
Повода шелковы.
Сели. кони с места враз;
Пышут дым ноздрями;
От копыт их поднялась
Вьюга над санями.
Скачут. пусто все вокруг,
Степь в очах Светланы:
На луне туманный круг;
Чуть блестят поляны.
Сердце вещее дрожит;
Робко дева говорит:
«Что ты смолкнул, милый?»
Ни полслова ей в ответ:
Он глядит на лунный свет,
Бледен и унылый.
Кони мчатся по буграм;
Топчут снег глубокий.
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокий;
Двери вихорь отворил;
Тьма людей во храме;
Яркий свет паникадил
Тускнет в фимиаме;
На средине черный гроб;
И гласит протяжно поп:
«Буди взят могилой!»
Пуще девица дрожит;
Кони мимо; друг молчит,
Бледен и унылый.
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Ворон каркает: печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Подымая гривы;
Брезжит в поле огонек;
Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом.
Кони борзые быстрей,
Снег взрывая, прямо к ней
Мчатся дружным бегом.
Вот примчалися. и вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених
Будто не бывали.
Одинокая, впотьмах,
Брошена от друга,
В страшных девица местах;
Вкруг метель и вьюга.
Возвратиться — следу нет.
Виден ей в избушке свет:
Вот перекрестилась;
В дверь с молитвою стучит.
Дверь шатнулася. скрыпит.
Тихо растворилась.
Что ж. В избушке гроб; накрыт
Белою запоной;
Спасов лик в ногах стоит;
Свечка пред иконой.
Ах! Светлана, что с тобой?
В чью зашла обитель?
Страшен хижины пустой
Безответный житель.
Входит с трепетом, в слезах;
Пред иконой пала в прах,
Спасу помолилась;
И с крестом своим в руке,
Под святыми в уголке
Робко притаилась.
Все утихло. вьюги нет.
Слабо свечка тлится,
То прольет дрожащий свет,
То опять затмится.
Все в глубоком, мертвом сне,
Страшное молчанье.
Чу, Светлана. в тишине
Легкое журчанье.
Вот глядит: к ней в уголок
Белоснежный голубок
С светлыми глазами,
Тихо вея, прилетел,
К ней на перси тихо сел,
Обнял их крылами.
Смолкло все опять кругом.
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвый шевелится.
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь — на лбу венец,
Затворены очи.
Вдруг. в устах сомкнутых стон;
Силится раздвинуть он
Руки охладелы.
Что же девица. Дрожит.
Гибель близко. но не спит
Голубочек белый.
Встрепенулся, развернул
Легкие он крилы;
К мертвецу на грудь вспорхнул.
Всей лишенный силы,
Простонав, заскрежетал
Страшно он зубами
И на деву засверкал
Грозными очами.
Снова бледность на устах;
В закатившихся глазах
Смерть изобразилась.
Глядь, Светлана. о творец!
Милый друг ее — мертвец!
Ах. и пробудилась.
Где ж. У зеркала, одна
Посреди светлицы;
В тонкий занавес окна
Светит луч денницы;
Шумным бьет крылом петух,
День встречая пеньем;
Все блестит. Светланин дух
Смутен сновиденьем.
«Ах! ужасный, грозный сон!
Не добро вещает он —
Горькую судьбину;
Тайный мрак грядущих дней,
Что сулишь душе моей,
Радость иль кручину?»
Села (тяжко ноет грудь)
Под окном Светлана;
Из окна широкий путь
Виден сквозь тумана;
Снег на солнышке блестит,
Пар алеет тонкий.
Чу. в дали пустой гремит
Колокольчик звонкий;
На дороге снежный прах;
Мчат, как будто на крылах,
Санки кони рьяны;
Ближе; вот уж у ворот;
Статный гость к крыльцу идет.
Кто. Жених Светланы.
Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; все тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах,
Те ж приятны взоры;
То ж на сладостных устах
Милы разговоры.
Отворяйся ж, божий храм;
Вы летите к небесам,
Верные обеты;
Соберитесь, стар и млад;
Сдвинув звонки чаши, в лад
Пойте: многи леты!
Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
В ней большие чудеса,
Очень мало складу.
Взором счастливый твоим,
Не хочу и славы;
Слава — нас учили — дым;
Свет — судья лукавый.
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».
О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана.
Будь, создатель, ей покров!
Ни печали рана,
Ни минутной грусти тень
К ней да не коснется;
В ней душа как ясный день;
Ах! да пронесется
Мимо — Бедствия рука;
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.
Источник: ilibrary.ru
В помощь школьнику. 9 класс. В. А. Жуковский. «Светлана» (1813)
3-я неделя октября. При изучении баллады «Светлана» сложно сказать, что интереснее — само произведение или история его создания
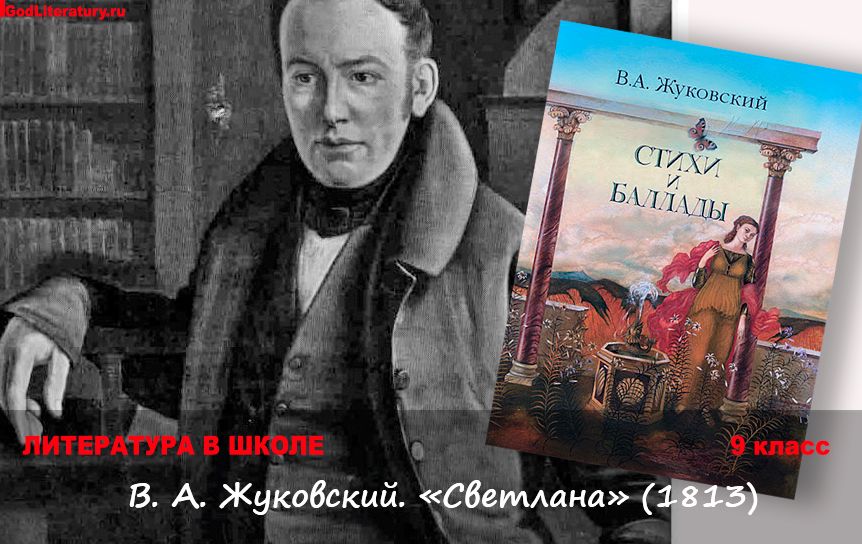
Текст: Ольга Разумихина *
Совсем недавно мы разбирали повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», которую в наши дни вряд ли кто-нибудь назовёт своим любимым произведением, — но два века назад эта книга была прямо-таки культовой. Примерно та же судьба — «превращение» из сверхпопулярного текста в заурядное историческое наследие — постигла и балладу «Светлана».
Школьник, обучающийся в классе с углублённым изучением литературы, вспомнит, что Василий Андреевич Жуковский состоял в обществе «Арзамас», куда входили также А. С. Пушкин и его дядя Василий Львович, а также такие выдающиеся поэты, как К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский и Д. В. Давыдов (да-да, тот самый Денис Давыдов, который появился на страницах романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир»).
Так вот, члены этого общества с удовольствием давали друг друга прозвища, и каждое такое прозвище было взято из какой-нибудь баллады Жуковского. Так, «солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин был известен под кодовым именем «Сверчок», — дань уважения той самой «Светлане», где есть следующие строчки:
С треском пыхнул огонёк,
Крикнул жалобно Сверчок,
Вестник полуночи.
Василий Львович Пушкин получил прозвище «Вот», которое часто встречается в той же самой «Светлане» (потом его ненадолго переименовали в «Вот Я Вас», а ещё позже — в «Вотрушку»; не спрашивайте). Ну, а самого Жуковского так и называли — «Светлана». Звучит немного странно, но Василию Андреевичу нравилось: ему было приятно, что произведение удалось и друзья признали его талант — пусть и таким чудаковатым способом.
Что до критиков, они восхищались «Светланой» наперебой: по их мнению, это было подлинно славянское произведение, воспевающее красоту русской души.
Но что же такого удивительного и прекрасного — кроме возвеличивания загадочной русской души — нашли современники в балладе Жуковского? Может, она «зацепила» их необычным сюжетом?
На тот свет и обратно
Сюжет баллады для своего времени и вправду был довольно необычен, — хотя начинается там всё более чем невинно. Тонко чувствующая девушка Светлана, которая, скорее всего, принадлежит к дворянскому сословию, в «крещенский вечерок» гадает вместе с подругами. Желая найти ответы на животрепещущие вопросы, девушки пробуют самые разные способы. Автор рассказывает, что подруги,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счётным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.
Ненадолго остановимся на каждом из этих гаданий.
•«За ворота башмачок» — это гадание, благодаря которому можно узнать, где живёт твой суженый: носок обуви (снять которую следовало обязательно с левой ноги) должен был указывать на сторону, откуда к девушке придут сваты. Но если брошенный башмачок «смотрел» на околицу, то есть на ту сторону, где начинается, допустим, лес или поле, это значило, что в новому году девушка замуж не выйдет.
•«Снег пололи» — искали кольцо, брошенное одной из подруг в сугроб. Кто найдёт — той в наступающем году выпадет больше всего счастья (которое, опять же, с большой степенью вероятности предстанет в образе завидного жениха).
•«Под окном слушали» — продолжение свадебной темы: девушки ходили по деревне и, заметив, что в чужом доме кто-то разговаривает, становились под окна и слушали, о чем идёт речь. Если разговор был весёлый, значит, и семейная жизнь у девушки окажется лёгкой и беззаботной; если же соседи выясняли отношения… сами понимаете.
•«Кормили счётным курицу зерном» — шли в курятник и давали птице несколько зёрен. Если она съедала их все, это означало, что девушку в этом году возьмут замуж. Если зёрна оставались — это указывало на то, сколько лет осталось до свадьбы: одно зерно — один год, два зерна — два года, и так далее.
•«Ярый воск топили»: плавили огарки свечей (чего-чего, а в деревне конца XIX века этого добра можно найти сколько угодно). В зависимости от того, какое очертание примет огарок, можно было понять, что тебя ждёт в новом году. Крест — болезнь или смерть, цветок — радость (а какая именно, догадайся, мол, сама), очертание животного — козни недоброжелателей, а кольцо — разумеется, свадьба.
«В чашу с чистою водой клали перстень золотой» — то же, что «пололи снег», но в домашних условиях. Подруги складывают украшения в блюдо, затем не глядя нащупывают их в воде. Вытащишь кольцо — выйдешь замуж, серьги — придётся ещё немного подождать. Но зачем мочить драгоценности? — чтобы счастливица с кольцом могла посмотреть в чашу и увидеть силуэт суженого.
Во время этого же гадания пели и «песенки подблюдны». Девушки напевали, что им в голову придёт, и смотрели, чьё украшение попадётся на той или иной строчке. Поют, допустим, «Чёрного ворона», и вдруг некая Маша достаёт из блюда серьги, принадлежащие некой Любе: значит, ждать Любе беды, а не сватов.
В общем, большинство гаданий деревенских девушек было связано с замужеством. Но если подруги Светланы, задумываясь о будущем, пребывали в полной неизвестности, то у Светланы был вполне конкретный вопрос к мирозданию: жив ли её суженый? А если жив, не забыл ли он о ней? Светлана, в отличие от остальных, на момент гадания была уже обручена, причём — редкое дело! — по любви; но молодого человека призвали на службу. Вот что говорит сама героиня о своих терзаниях:
Как могу, подружки, петь?
Милый друг далёко;
Мне судьбина умереть
В грусти одинокой.
Год промчался — вести нет;
Он ко мне не пишет;
Ах! а им лишь красен свет,
Им лишь сердце дышит.
Однако традиции традициями, а гадание — это грех. Особенно в «крещенский вечерок», ведь Крещение Господне — это великий православный праздник. Потому-то Светлана, которой надо бы смириться с тем, что в жизни не всё так просто, сама того не ведая, бросает вызов самому мирозданию.
Но, поскольку девушка она, вообще-то, хорошая, мироздание её не наказывает, а для начала вынуждает пройти испытание. Так что, оказавшись в темноте перед зеркалом, Светлана оказывается ни много ни мало в потустороннем мире, где её — о счастье! — наконец-то навещает жених. Но почему он так странно выглядит? Ему бы прижать любимую к молодецкой груди, закружить, поцеловать, а он молчит, «бледен и унылый»…
К счастью, всё, что происходит со Светланой в дальнейшем, оказывается всего лишь наваждением. Девушка с достоинством выдерживает испытание — не в последнюю очередь благодаря вере в Бога. Осознав, что её жених совсем не тот, за кого себя выдаёт, Светлана встаёт на колени перед иконой, и к ней на помощь спешит «голубочек белый» — символ Святого Духа. После чего Жуковский «награждает» свою героиню, которая сполна искупила грех, счастьем в личной жизни, а затем выступает с нравоучением:
Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в Провиденье.
Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон;
Счастье — пробужденье».
«Всё это замечательно, — скажет на этом месте читатель, — но всё-таки, что такого особенного в этой балладе?»
Что ж, пришло время объяснить.
Сюжет из Германии
Как мы уже знаем, литературное направление, в русле которого работал В. А. Жуковский, называется романтизм. Изобрели его далеко не российские классики: пафосные (в хорошем смысле) баллады и поэмы, призывавшие к борьбе за счастье и свободу, задолго до Жуковского публиковались и в Англии, и во Франции.
А в Германии одним из самых известных романтиков был некто Готфрид Август Бюргер, который в 1773 г. выпустил поэму «Ленора». Сюжет её, как и большинство подобных текстов, был пессимистичен. Некто Ленора ожидает возвращения домой возлюбленного Вильгельма, но он, как выясняется, убит на поле брани. Не желая примириться с этим известием, девушка ропщет на Бога, который якобы лишил её счастья, — и оказывается наказана: ночью за ней приходит призрак жениха и утягивает с собой в могилу. Автор недвусмысленно намекает, что строптивицу после смерти ждут далеко не райские сады.
Будучи страстным любителем переводить зарубежные баллады, Жуковский не оставил произведение Бюргера без внимания — и спустя год после публикации оригинала, в 1774 г., выпустил работу, которую так и назвал — «Ленора». Этот перевод, хотя и был довольно удачным, но не слишком-то запомнился современникам Василия Андреевича.
Тогда Жуковский решил внести в сюжет Бюргера коррективы — и в 1808 г. напечатал ещё один вариант перевода: теперь он назывался «Людмила». Эта самая Людмила обрела русские корни и оказалась менее строптивой, чем Ленора, но нить повествования была примерно та же: из-за уныния девушка оказалась лишена второго шанса. В русском переводе баллада заканчивалась так:
Что ж Людмила. Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,
Пала мёртвая на прах.
Стон и вопли в облаках,
Визг и скрежет под землёю;
Вдруг усопшие толпою
Потянулись из могил;
Тихий, страшный хор завыл:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь Всевышний правосуден;
Твой услышал стон Творец;
Час твой бил, настал конец».
Но и на этом Жуковский не успокоился. Он чувствовал, что в сюжете о бедной девушке, ожидающей суженого, кроется куда больший потенциал, — и был прав. А для того, чтобы этот потенциал раскрыть, требовалось не так уж много: разбросать по тексту ещё больше славянских реалий — и. никого не убивать в финале баллады. Казалось бы, такое простое решение, — а сколько славы оно принесло Василию Андреевичу!
С высоты XXI в. вся эта история кажется, пожалуй, забавной; но человечество, как известно, ходит кругами. Так что — кто знает: может, нынешние писатели настолько облюбуют кровожадные методы Джорджа Мартина, что спустя пятнадцать-двадцать лет произведения, которые заканчиваются на оптимистичной ноте, будут вызывать такой же восторг, как в своё время — баллада о простой русской девушке Светлане?
Ольга Разумихина — выпускница Литературного института им. А. М. Горького, книжный обозреватель и корректор, а также репетитор по русскому языку и литературе. Каждую неделю она комментирует произведения, которые проходят учащиеся 9—11 классов.
Колонка «В помощь школьнику» будет полезна и тем, кто хочет просто освежить в памяти сюжет той или иной книги, и тем, кто смотрит глубже. В материалах О. Разумихиной найдутся исторические справки, отсылки к трудам литературоведов, а также указания на любопытные детали и «пасхалки» в текстах писателей XVIII—XX вв.
Источник: godliteratury.ru