145 лет назад, 1 апреля (20 марта) 1873 года, в усадьбе Семёново Новгородской губернии родился потомок дворян, которому суждено было стать одним из символов России на Западе, великий русский композитор и пианист Сергей Васильевич Рахманинов.
Музыкальная одарённость ребёнка проявилась чуть ли не на следующий день после рождения. Сначала с ним занималась мать, затем была приглашена учительница, а в 9 лет Серёжа Рахманинов был принят в младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории. Ещё через три года, с целью улучшения дисциплины, с которой у юного дарования стали возникать проблемы, было решено перевести его в частный пансион профессора Московской консерватории Зверева, славившегося строгим распорядком и высоким уровнем обучения.
Серёжа Рахманинов
В 1988 году пятнадцатилетний Рахманинов поступил в старшее отделение Московской консерватории. Уже через год после начала изучения композиции (класс Танеева и Аренского) студент Рахманинов выдаёт свой знаменитый Первый концерт для фортепиано с оркестром, а в качестве дипломной работы пишет оперу «Алеко», поставленную по настоянию Чайковского в Большом театре. Как результат – окончание консерватории в 19 лет с золотой медалью сразу по двум классам – фортепиано и композиции.
Султан Лагучев — Модная | Премьера клипа 2022
Студент Рахманинов
Несмотря на огромную популярность, Рахманинова часто посещало пессимистичное настроение. Он вообще по своему характеру был достаточно мнителен и склонен к потере веры в свои силы. После провала Первой симфонии и критических отзывов о ней Кюи и Римского-Корсакова, композитор впал в глубокую депрессию и на протяжении трёх лет практически ничего не сочинял.
Расцвет творчества Рахманинова пришёлся на начало XX века, но был безжалостно прерван Октябрьским переворотом. Через два месяца после революции он вместе с семьёй выехал на концерт в Стокгольм и в Россию больше не вернулся.
Сергей Рахманинов
Поскольку всё имущество Рахманиновых осталось в Советской России, в Европе композитор был вынужден зарабатывать как концертирующий пианист. Расплатившись с долгами и скопив необходимые средства, в ноябре 1918 года композитор с семьёй отплыл из Европы в Нью-Йорк.
Необходимость зарабатывать исполнительством вкупе с нарастающей тоской по родине сыграли роковую роль. Можно смело утверждать, что эмиграция похоронила Рахманинова как композитора. В списке его произведений между 1917 и 1927 годами зияет пугающая пустота. За 25 лет жизни за рубежом Рахманинов написал всего 6 произведений: Концерт для фортепиано с оркестром № 4 (1927), Три русские песни для хора и оркестра (1928), Вариации на тему Корелли для фортепиано (1929), Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром (1935), Симфонию № 3 (1937) и Симфонические танцы (1941).
Памятник Рахманинову на Страстном бульваре в Москве
Несмотря на непреодолимую ненависть к большевикам, безграничную любовь к Родине Рахманинов сохранил до конца жизни. После нападения Германии на СССР сборы от своих концертов он переводил в Фонд обороны СССР с комментарием:
Ислам Итляшев, Султан Лагучев — Сделан из стали | Премьера трека 2022
От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу.
О том, что его пожелание будет исполнено в полной мере, он так и не узнал. Великий пианист и композитор умер 28 марта 1943 года, не дожив трёх дней до своего 70-летия. Похоронен символ русской музыки на кладбище Кенсико в 50 километрах от Нью-Йорка. Там же спустя восемь лет похоронили его жену Наталью Рахманинову, а в 1969 году дочь Ирину.
Источник: dzen.ru
Музыка Гофмана

Весь мир признал его музыкальный талант, когда ему было 11 лет. Воодушевленный, он дал 52 концерта за два месяца, после чего его отца обвинили в «эксплуатации ребенка», а его самого отправили учиться в Берлин к великому Рубинштейну. Он с триумфом вернулся на сцену сразу после совершеннолетия, чтобы следующие полвека быть лучшим и дружить с лучшими, а потом вдруг посвятить себя механике и придумать массу полезных вещей, вроде «дворников» для автомобилей. Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения знаменитого пианиста и композитора Иосифа Гофмана.
Однажды он написал Рахманинову, с которым дружил, восторженное письмо, в котором были такие строки: «Мой дорогой Премьер! Под “Премьером” я разумею: первый из пианистов. » Рахманинов тут же ответил: «Дорогой Гофман, существует такой рассказ. Некогда в Париже жило много портных.
Когда одному из них удалось снять лавку на улице, где не было ни одного портного, он написал на своей вывеске: “Лучший портной в Париже”. Другой портной, открывший лавку на той же самой улице, уже вынужден был написать на вывеске: “Лучший портной на всем свете”. Но что оставалось делать третьему портному, арендовавшему лавку между двумя первыми? Он написал скромно: “Лучший портной на этой улице”. Ваша скромность дает вам полное право на этот титул: Вы – “лучший на этой улице”».
То, что Иосиф Гофман – «лучший на этой улице», признавалось всеми современниками и великими пианистами. «Общепризнанный кумир», «Любимейший», «Царивший беспредельно» – только с такими заголовками выходили статьи с рецензиями на его концерты, пришедшиеся на зрелый период творчества. Когда же он только начинал выступления перед публикой, в возрасте семи лет, поражая аудиторию своим талантом, он был признан вундеркиндом.

Будущий пианист и композитор Иосиф Гофман родился 20 января 1876-го в Подгорце близ Кракова, входившего тогда в состав Австро-Венгерской империи, в очень музыкальной семье. Его отец Казимир Гофман, воспитанник Венской консерватории по классу фортепиано и выпускник философского факультета Краковского университета, был дирижером Краковской оперы.
Мать, Матильда Вышовская, обладательница прекрасного голоса, пела в том же театре. Через несколько лет семья перебралась в Варшаву, где и началось обучение Иосифа игре на фортепиано. Первые уроки он получил в три года у старшей сестры, затем с ним стал заниматься отец. Первый публичный концерт Иосифа состоялся, едва ему исполнилось семь лет. Он играл ре-минорный концерт Моцарта.
Присутствовавший на одном из первых концертов Гофмана Антон Рубинштейн заявил, что в музыкальном мире никогда еще не появлялось ничего подобного. Видя способности сына, получая одобрительные отзывы о его игре от известных и маститых пианистов, отец оставил собственную музыкальную деятельность и всецело посвятил себя карьере сына. Вместе с отцом Иосиф объездил с концертами Германию, Данию, Швецию, Норвегию, Англию, Францию.
Отец, будучи отличным антрепренером, организовал выступление и в США, где в ноябре 1887-го Иосиф дебютировал с концертом в театре Метрополитен-опера. Публика была в восторге от его исполнения. Критики лишь подогревали интерес к его последующим выступлениям: «Его техника феноменальна!», «Законченность, зрелость, точность, гений пианизма!», «Ошеломляюще!».
Первые полосы всех изданий пестрели заметками о юном гении, а газета New York Times писала: «Иосиф Гофман рожден, чтобы быть пианистом, и как таковой он уже сейчас, в свои десять лет, стоит в первом ряду. Что более всего поражает искушенных слушателей, так это его совершенно взрослая игра. Такие соображения, как “для ребенка это, конечно, прекрасно”, не приходят в голову, потому что это прекрасно и для взрослого человека».

Каждое из этих слов бальзамом лилось на сердце отца, ведь такие рецензии были гарантией следующего аншлага. И за два с половиной месяца 12-летний Гофман дал 52 концерта. И вот это уже американская общественность расценила как «эксплуатацию ребенка». Теперь газеты стали полниться статьями возмущений.
А когда в дело вмешалось общество защиты детей, отцу Иосифа пришлось отменить все запланированные концерты. Убытки от такого решения могли стать роковыми для благосостояния семьи. Однако меценат Альфред Коминг Кларк, слышавший юного пианиста в Нью-Йорке, предложил отцу Гофмана материальную помощь – 50 тысяч долларов при условии, что Иосиф до 18 лет не будет выступать публично, а за это время получит серьезное музыкальное образование. Согласившись на эти условия, семья переехала в Берлин, где Иосиф начал брать уроки музыки у видных педагогов того времени. Завершил же он свое обучение у Антона Рубинштейна, став его единственным частным учеником, помимо доведенного Рубинштейном до выпуска класса в Петербургской консерватории.
Закончив обучение у Рубинштейна, в 1894 году Гофман вновь вышел на сцену. И вновь всюду были аншлаги и восторженные аплодисменты. Гастроли по Европе, США и Южной Америке. Он был желанен и ожидаем во всех странах, в том числе и в России, где, как вспоминал впоследствии сам Гофман, он играл охотнее всего. Его популярность здесь зашкаливала.
Каждый концерт превращался в триумф, ведь ни одна программа не повторялась. Он обладал феноменальной памятью. Перед выходом на сцену спрашивал у администратора: «Что я играю сегодня?» Получив ответ, уверенно шел к роялю и отыгрывал концерт без нот.
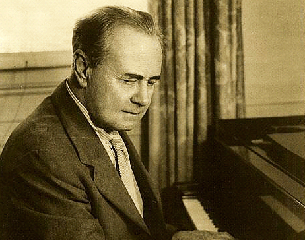
Правда, когда Гофман перебирается в Америку в 1899 году, называя ее «второй Родиной», многие из ранее восторженных российских изданий освещают его игру несколько иначе. А в «Русской музыкальной газете» появляются упреки, что Гофман «дает слишком много концертов», «быстро превращается в человека, для которого “святое искусство” – юношеская блажь», который «измеряет искусство денежной прибылью», и что «прежняя непосредственность его интерпретации все больше сменяется штампами».
Но на любви публики такие отдельные заметки никак не сказались. Залы всегда были заполнены, а восторженная публика, бывало, после концертов даже запрягалась в карету вместо лошадей, везя за собой обожаемого Гофмана.
Говорят, в 1911 году Николай II даже вручил ему символические ключи от железной дороги, дав ему право бесплатного передвижения по всей России для свободы выбора места проведения очередного концерта. А познакомившись в 1912 году с Сергеем Рахманиновым, он оставался дружен с ним до конца жизни великого русского композитора, который даже посвятил Гофману свой третий фортепьянный концерт. О значимости их дружбы свидетельствуют и слова Гофмана после смерти композитора: «Никогда не было более чистой, святой души, чем Рахманинов. Он был Великим Музыкантом, создан из стали и золота: сталь – в его руках, золото – в сердце. Не могу без слез думать о нем».

Приняв гражданство США в 1924 году, вскоре он принял и предложение возглавить Кёртисовский институт музыки в Филадельфии. Возглавляя его на протяжении 12 лет, он разработал систему преподавания, опирающуюся, прежде всего, на изучение традиций, которые он, по его словам, унаследовал от Рубинштейна.
Под его руководством институт вышел на мировой уровень, став отличной школой для многих будущих дарований. В 1938 году, оставив руководство институтом, он прекратил и выступления, посвятив себя семье, спорту и, как ни удивительно, механике. Гофману принадлежат десятки изобретений, в том числе, например, и стеклоочистители для автомобиля – «дворники». Правда, сам он себя всегда считал «просто музыкантом», поэтому патентовать свои изобретения не спешил.
Гофман умер в Лос-Анджелесе 16 февраля 1957 года на 82-м году жизни. Его последний концерт состоялся в нью-йоркском Карнеги-холле накануне 70-летия артиста. После него вновь рецензии критиков изобиловали восторгами, вновь в зале не смолкали аплодисменты. Со стороны казалось, что все это дается ему легко, как и всегда давалось раньше.
Что его многолетний успех просто предопределен безусловным талантом. Что он просто рожден под счастливой музыкальной звездой. Но за талантом стоял ежедневный титанический труд Гофмана. «Нужно работать всегда упорно, стараясь дать все, что в ваших силах, – писал он. – Конечно, даже при наилучших советах кое-что всегда остается на долю судьбы – того странного стечения обстоятельств, которое могло бы даже заставить иного уверовать в астрологию с ее учением о том, будто наш путь на земле направляется звездами… Судьба играет свою роль, но не поддавайтесь соблазну обманчивой веры в то, будто успех и все прочее зависят от судьбы, ибо важнейший фактор – это все же упорный труд и разумное руководство».
Источник: jewish.ru
20 марта (1 апреля) 1873 года родился Сергей Васильевич Рахманинов

«Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды». Эти слова принадлежат С. Рахманинову — великому композитору, гениальному пианисту и дирижеру. Все важнейшие события русской общественной и художественной жизни отразились в его творческой судьбе, оставив неизгладимый след. Формирование и расцвет творчества Рахманинова приходится на 1890-1900-е гг.время, когда в русской культуре происходили сложнейшие процессы, духовный пульс бился лихорадочно и нервно. Присущее Рахманинову остро-лирическое ощущение эпохи неизменно связывалось у него с образом горячо любимой Родины, с беспредельностью ее широких далей, мощью и буйной удалью ее стихийных сил, нежной хрупкостью расцветающей весенней природы.
Дарование Рахманинова проявилось рано и ярко, хотя до двенадцатилетнего возраста особого рвения к систематическим занятиям музыкой он не обнаруживал. Учиться играть на рояле он начал в 4 года, в 1882 г. был принят в Петербургскую консерваторию, где, предоставленный самому себе, изрядно бездельничал, а в 1885 г. его перевели в Московскую консерваторию. Здесь Рахманинов занимался по классу фортепиано у Н. Зверева, затем А. Зилоти; по теоретическим предметам и композиции — у С. Танеева и А. Аренского. Живя в пансионе у Зверева (1885-89), он прошел суровую, но очень разумную школу трудовой дисциплины, превратившую его из отчаянного лентяя и шалуна в человека исключительно собранного и волевого. «Лучшим, что есть во мне, я обязан ему», — так говорил впоследствии о Звереве Рахманинов. В консерватории Рахманинов находился под сильным влиянием личности П. Чайковского, который, в свою очередь, следил за развитием своего любимца Сережи и по окончании им консерватории помог поставить оперу «Алеко» в Большом театре, зная по собственному печальному опыту, как тяжело начинающему музыканту прокладывать себе дорогу.
Консерваторию Рахманинов окончил по классу фортепиано (1891) и композиции (1892) с Большой золотой медалью. К этому времени он был уже автором нескольких сочинений, среди которых — знаменитая Прелюдия до-диез минор, романс «В молчаньи ночи тайной», Первый фортепианный концерт, опера «Алеко», написанная в качестве дипломной работы всего за 17 дней!
Последовавшие за ними Пьесы-фантазии ор. 3 (1892), Элегическое трио «Памяти великого художника» (1893), Сюита для двух фортепиано (1893), Музыкальные моменты ор. 16 (1896), романсы, симфонические произведения — «Утёс» (1893), Каприччио на цыганские темы (1894) — подтвердили мнение о Рахманинове как о таланте сильном, глубоком, самобытном. Характерные для Рахманинова образы и настроения предстают в этих произведениях в широком диапазоне — от трагической скорби «Музыкального момента» си минор до гимнического апофеоза романса «Весенние воды», от сурового стихийно-волевого напора «Музыкального момента» ми минор до тончайшей акварели романса «Островок».
Жизнь в эти годы складывалась сложно. Решительный и властный в исполнительстве и творчестве, Рахманинов по натуре был человеком ранимым, часто испытывал неуверенность в себе. Мешали материальные затруднения, житейская неустроенность, скитания по чужим углам. И хотя его поддерживали близкие ему люди, в первую очередь семья Сатиных, он чувствовал себя одиноким.
Сильное потрясение, вызванное провалом его Первой симфонии, исполненной в Петербурге в марте 1897 г., привело к творческому кризису. Несколько лет Рахманинов ничего не сочинял, зато активизировалась его исполнительская деятельность как пианиста, состоялся дирижерский дебют в Московской частной опере (1897).
В эти годы он познакомился с Л. Толстым, А. Чеховым, артистами Художественного театра, началась дружба с Фёдором Шаляпиным, которую Рахманинов считал одним «из самых сильных, глубоких и тонких художественных переживаний». В 1899 г. Рахманинов впервые выступил за рубежом (в Лондоне), в 1900 — побывал в Италии, где появились наброски будущей оперы «Франческа да Римини».
Радостным событием явилась постановка оперы «Алеко» в Петербурге по случаю 100-летнего юбилея А. Пушкина с Шаляпиным в партии Алеко. Так постепенно готовился внутренний перелом, и в начале 1900-х гг. произошло возвращение к творчеству. Новый век начался со Второго фортепианного концерта, прозвучавшего как могучий набат.
Современники услышали в нем голос Времени с его напряженностью, взрывчатостью, ощущением грядущих перемен. Теперь жанр концерта становится ведущим, именно в нем с наибольшей полнотой и всеохватностью воплощаются главные идеи. В жизни Рахманинова наступает новый этап.
Всеобщее признание в России и за рубежом получает его пианистическая и дирижерская деятельность. 2 года (1904-06) Рахманинов работал дирижером в Большом театре, оставив в его истории память о замечательных постановках русских опер.
В 1907 г. он принимал участие в Русских исторических концертах, организованных С. Дягилевым в Париже, в 1909 г. впервые выступал в Америке, где играл свой Третий фортепианный концерт под управлением Г. Малера. Интенсивная концертная деятельность в городах России и за рубежом сочеталась с не менее интенсивным творчеством, причем в музыке этого десятилетия (в кантате «Весна» — 1902, в прелюдиях ор. 23, в финалах Второй симфонии и Третьего концерта) много пылкой восторженности и воодушевления. А в таких сочинениях, как романсы «Сирень», «Здесь хорошо», в прелюдиях ре мажор и соль мажор, с удивительной проникновенностью зазвучала «музыка поющих сил природы».
Но в эти же годы ощущаются и другие настроения. Горестные думы о родине и ее грядущей судьбе, философские размышления о жизни и смерти порождают трагические образы Первой фортепианной сонаты, навеянной «Фаустом» И. В. Гёте, симфонической поэмы «Остров мертвых» по картине швейцарского художника А. Бёклина (1909), многих страниц Третьего концерта, романсов ор. 26.
Внутренние изменения стали особенно ощутимы после 1910 г. Если в Третьем концерте трагедийность в итоге преодолевается и концерт завершается ликующим апофеозом, то в сочинениях, последовавших за ним, она непрерывно углубляется, вызывая к жизни агрессивные, враждебные образы, мрачные, подавленные настроения. Усложняется музыкальный язык, исчезает столь характерное для Рахманинова широкое мелодическое дыхание.
Таковы вокально-симфоническая поэма «Колокола» (на ст. Э. По в переводе К. Бальмонта — 1913); романсы ор. 34 (1912) и ор. 38 (1916); Этюды-картины ор. 39 (1917).
Однако именно в это время Рахманинов создал произведения, исполненные высокого этического смысла, ставшие олицетворением непреходящей духовной красоты, кульминацией рахманиновской мелодийности — «Вокализ» и «Всенощное бдение» для хора a cappella (1915). «Меня с детства увлекали великолепные напевы Октоиха. Я всегда чувствовал, что для их хоровой обработки необходим особый, специальный стиль, и, как мне кажется, нашел его во Всенощной. Не могу не признаться. что первое исполнение ее московским Синодальным хором дало мне час счастливейшего наслаждения», — вспоминал Рахманинов.
24 декабря 1917 г. Рахманинов с семьей покинул Россию, как оказалось, навсегда. Более четверти века прожил он на чужбине, в США, и этот период был в основном насыщен изнурительной концертной деятельностью, подчинявшейся жестоким законам музыкального бизнеса. Значительную часть своих гонораров Рахманинов использовал для материальной поддержки соотечественников за рубежом и в России. Так, весь сбор за выступление в апреле 1922 г. был передан в пользу голодающих в России, а осенью 1941 г. более четырех тысяч долларов Рахманинов направил в фонд помощи Красной Армии.
За рубежом Рахманинов жил замкнуто, ограничив круг друзей выходцами из России. Исключение было сделано лишь для семейства Ф. Стейнвея — главы фортепианной фирмы, с которым Рахманинова связывали дружеские отношения.
Первые годы пребывания за границей Рахманинова не покидали мысли об утрате творческого вдохновения. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя».
Только спустя 8 лет после отъезда за рубеж Рахманинов возвращается к творчеству, создает Четвертый фортепианный концерт (1926), Три русские песни для хора и оркестра (1926), «Вариации на тему Корелли» для фортепиано (1931), «Рапсодию на тему Паганини» (1934), Третью симфонию (1936), «Симфонические танцы» (1940). Эти произведения — последний, самый высокий рахманиновский взлет.
Скорбное чувство невосполнимой утраты, жгучая тоска по России рождает искусство огромной трагической силы, достигающей своего апогея в «Симфонических танцах». А в гениальной Третьей симфонии Рахманинов в последний раз воплощает центральную тему своего творчества — образ Родины. Сурово-сосредоточенная напряженная мысль художника вызывает его из глубины веков, он возникает как бесконечно дорогое воспоминание. В сложном переплетении разнохарактерных тем, эпизодов вырисовывается широкая перспектива, воссоздается драматическая эпопея судеб Отечества, завершающаяся победным жизнеутверждением. Так через все творчество Рахманинов проносит незыблемость своих этических принципов, высокую духовность, верность и неизбывную любовь к Родине, олицетворением которой стало его искусство.
Источник: dem-2011.livejournal.com