Цель:
Расширить знания детей о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Способствовать воспитанию уважения к ветеранам-труженикам тыла.
Рассказать о подвиге земляков-горьковчан во время войны , о трудовом героизме школьников — ровесников современных мальчишек и девчонок.
Воспитывать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отечества;
Задачи:
— развивать нравственные чувства сопереживания, чувства благодарности;
— воспитывать чувство патриотизма, бережное отношение к пожилым людям;
Ход мероприятия
Вступительная часть. Учитель:
Сегодня классный час посвящен нашим землякам, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в тылу, позади фронта. В то время наш Нижний Новгород назывался город Горький, в честь писателя Максима Горького, нашего выдающегося земляка.
Ранним утром 22 июня 1941 года началось внезапное вторжение войск фашистской Германии на территорию Советского Союза. Весть о вероломном нападении на нашу Родину подняла всю страну и пробудила невиданный патриотический подъем всего народа. Город Горький был крупным промышленным центром, поэтому в планах врага штурм нашего города предполагался сразу после захвата Москвы, примерно в начале октября 1941 года. Однако Москва выстояла, а в нашем городе был создан Горьковский городской комитет обороны. Главной задачей было строительство оборонительных рубежей. В очень холодную погоду, несмотря на бомбежки немецкой авиации, эти рубежи строило все население, в том числе и ученики старших классов. (
Рейсан Магомедкеримов — Предки | Премьера клипа 2022
/data/files/x1580068848.ppt (Горьковчане труженики тыла) Слайд 2 )
Не знаю, вы, быть может, не видали
Остатки рвов у волжских деревень?
На этих рубежах не воевали –
Их строили на самый черный день.
На самый горький, страшный миг прорыва,
На самый роковой для жизни час,
Когда б волна железного прилива
Плеснула под Саранск и Арзамас…
Но трижды славны камни Сталинграда,
Которым здесь обязана земля.
Обязана покоем деревенским,
Где есть одно лишь зарево – закат,
И тем рукам, и девичьим, и женским,
Измученным от тяжести лопат…
Ю. Адрианов «Невоевавшие окопы».
Основная часть. Всё для фронта! Всё для Победы!
Помимо защиты города была другая основная задача – наладить производство оружия, боеприпасов и другого военного снаряжения.
Девизом для рабочих горьковских предприятий, как и по всей стране, стали слова: « Всё для фронта! Всё для Победы! ». Горьковские заводы работали круглосуточно, к станкам вставали женщины и дети, заменяя ушедших на фронт мужчин. Работали в несколько смен, порой под бомбежками.
Основными заводами по производству военной техники и снарядов были:
Завод «Красное Сормово».
Судостроительный завод «Красное Сормово» за 4 месяца превратился в танковый. В декабре 1941 года в день уже производилось по 3–4 танка.
А всего за годы войны завод поставил фронту 10 159 танков!
Очень высоко оценил вклад сормовичей маршал Г. К. Жуков:
Брак с ТРУПОМ..Заживо ГНИЮЩИЙ.. ПЯТЬ ДРЕВНИХ и ЧУДОВИЩНЫХ КАЗНЕЙ ..
«В октябре 1941 года, когда мне была поручена операция по обороне Москвы, мы начали получать с сормовского завода танки Т-34. Эта помощь пришла вовремя и сыграла большую роль в битве за Москву».
Танк Т-34 был признан лучшим танком Второй мировой войны. ( Слайд 3 )
Горьковский автозавод (ГАЗ).
ГАЗ выпускал легкие танки Т-60, Т-70, самоходные артиллерийские установки и аэросани, поставил фронту 24 145 минометов, а также автомобили повышенной проходимости ГАЗ-64. Производство находилось в тяжелых условиях. Так в 1943-м на Горький было совершено три крупных авианалета, основной целью был Автозавод. На город была сброшено 1630 фугасных и 33 934 зажигательных бомб, из них на ГАЗ — 1095 и 2493 бомб соответственно. В результате налетов на автозаводе было разрушено порядка 50 зданий, 9 тысяч единиц оборудования, 8 тысяч моторов, 28 мостовых кранов и многое другое, погибло 232 человека.
Инженер ГАЗа Иван Андреевич Харкевич в своем дневнике писал:
«…по радио завыла сирена воздушной тревоги… Послышался нарастающий свист бомб и грохот разрывов… Сразу целая огненная стена выросла над Автозаводом, таких налетов еще не было. Немцы неистово бомбили по образовавшимся огненным ориентирам, одновременно круша шоссейные дороги вокруг завода и поселков…». ГАЗ сильно пострадал и был отстроен практически заново к середине 1944 года. ( Слайд 4 )
Горьковский авиационный завод.
С первых дней войны предприятие перешло на круглосуточный график работы, смена длилась по 12-14 часов, часто приходилось работать, целыми сутками не выходя из цехов. К концу 1941 года каждый третий истребитель выпускался на Горьковском авиазаводе, темп выпуска достигал до 24 самолётов в сутки. Это были знаменитые истребители Ла-5, Ла-7(один из лучших истребителей периода второй мировой войны). Всего за 1941-1945 годы Горьковский авиазавод выпустил 19202 самолёта, в 1943 года главному конструктору завода С.А. Лавочкину за выдающиеся заслуги в области создания самолётов-истребителей присвоили звание Героя Социалистического Труда. ( Слайд 5 )
Машзавод: в годы войны предприятие называлось Горьковским артиллерийским заводом имени Сталина. За годы войны на одном машиностроительном заводе было выпущено столько же артиллерийских орудий, сколько на всех предприятиях Германии и стран гитлеровской коалиции. Основной костяк работников приходился на женщин и подростков. За военное время завод выпустил 101 873 пушки. Пушки ЗИС-2, ЗИС-3 были особо любимы в советских войсках. Один выстрел гарантировал точное попадание в цель. ( Слайд 6 )
Кстати, на Горьковский артиллерийский завод не была сброшена ни одна бомба, хотя в округе разорвавшиеся снаряды были не редкостью.
Причиной тому была специальная маскировка: с воздуха завод смотрелся как обычный жилой микрорайон, не представляющий угрозы для немецкой армии.
Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова (тогда это был железо-конструкционный завод «Молот»). В 1941 году большая часть квалифицированных рабочих ушла на фронт. Количество рабочих сократилось с 720 до 400 и до конца войны не превышало 500 человек. Места ушедших заняли подростки и пожилые люди. Завод выпускал самосвалы, штабные и санитарные автобусы, полевые кухни. ( Слайд 7 )
Гидромаш: выпускал взлетно-посадочные системы для пикирующих бомбардировщиков и истребителей, которые были крайне необходимы фронту. За войну завод выпустил 22 тысячи комплектов шасси к самолетам . Шасси завода стояли на каждом шестом самолете, сделанном в СССР в 1941–1945 годах.
Жиркомбинат : выпускал порошок для зажигательных смесей и мыло для партизан, порошок. На комбинате также вырабатывался состав для пропитки ткани костюмов химзащиты, пищевой саломас для жителей блокадного Ленинграда. Самая большая помощь фронту была оказана, когда в 1941 году на комбинате стали выпускать для фронта жидкость «Стеол М», которая применялась в гидросистемах артиллерии и авиации.
Также во время войны не прекращалось производство хозяйственного и туалетного мыла. Туалетное мыло отправлялось в основном в госпитали и на фронт.
Условия работы в тылу.
Всего за время войны вражеские бомбардировщики совершили 43 налета на Горький, из них 26 налетов ночью. Девиз «Все для фронта! Все для победы!» был для наших земляков военной поры не пустым звуком, они так думали и так жили, вместе с солдатами на фронте приближая такую долгожданную Победу.
Не легче приходилось и крестьянам Горьковской области. Участник тех событий, В.А. Тихонова вспоминает: «В тяжелые годы войны приходилось есть что придется: крапиву, щавель, коренья, маленькие шишки сосны, очистив их от иголок, из гнилой мерзлой картошки пекли оладьи.
Летом маленькие полуголодные дети ходили рубить пеньки, связывали их веревкой и несли на своих плечах, сгибаясь под непосильной ношей, а зимой рубили сухие сучья на деревьях, укладывали на санках и везли 5 км, с трудом пробираясь по сугробам. Всем было нелегко в эти годы. Соседи варили суп в самоваре, экономя дрова. Были хлебные карточки на каждого, и ежедневно приходилось выстаивать огромные очереди за хлебом. Однажды, простояв в очереди несколько часов, подхожу к весам и с ужасом обнаруживаю, что вместо сумки у меня в руках ручки от сумки, которую обрезали, а там хлебные карточки на весь месяц. И наша семья была вынуждена жить без хлеба весь месяц, сидя на одной картошке» ( Слайд 8 )
Монолог Любы Шевцовой из произведения Фадеева А. «Молодая гвардия» .
Больно, чтобы не заплакать я прикусила губы. Я искусала их в кровь…В крови были не только мои губы. В крови был весь деревянный топчан, на котором меня били…Как я могла говорить, когда молчала Улька Громова, которой на спине выжгли пятиконечную звезду, молчал Ваня Земнухов, который не произнёс ни слова со дня его ареста, молчали все.
Меня расстреляли последней, надеясь выведать у меня шифр радиопередатчика. Ребят не стало 31 января. Меня же мучили ещё до 7 февраля. Перед расстрелом мне удалось отправить моей маме записку «Прощай, мама, твоя дочь уходит в сырую землю!». Ротенфюрер СС, ведший меня на расстрел, хотел поставить меня на колени и выстрелить в затылок, но я не стала на колени и приняла пулю в лицо…
По окончании монолога девочка ставит горящую свечу на стол с портретом Любы Шевцовой.
На фоне песни А.Пахмутовой «О тревожной молодости».
Чтец Мы были серыми, как соль.
А соль- на золото ценилась.
В людских глазах застыла боль.
Земля дрожала и дымилась.
Просили, плача: «Мама, хлеба!»
А мама плакала в ответ.
И смерть обрушивалась с неба,
Раскалывая белый свет.
Да, мало было хлеба, света,
Игрушек, праздников, конфет.
Мы были серыми как соль а соль на золото ценилась
«Ивановский миф» и литература
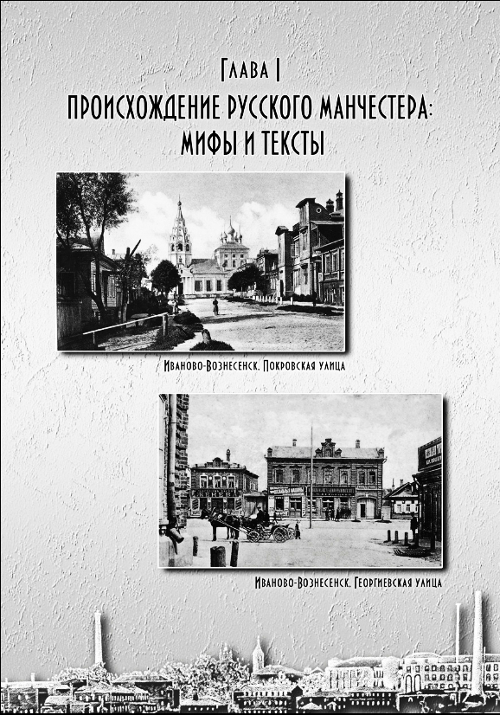
Потребность в истории литературы ивановского края сегодня ощущают все, кто так или иначе причастен к литературному краеведению. Круг ожидающих довольно велик: преподаватели литературы, школьники, студенты, экскурсоводы и т. д. И было бы весьма полезно просто привести в должную систему то, что накоплено ивановскими краеведами, занимающимися литературой родного края. А накоплено немало.
Еще в 1920-е годы, на заре ивановского краеведения, усилиями М. П. Сокольникова, Н. Ф. Бельчикова, А. Е. Ноздрина было заложено основание для изучения местной литературы. После большого перерыва (с конца 20-х годов вплоть до середины двадцатого века краеведческое направление в литературоведении не поощрялось государством) был сделан значительный шаг вперед в литературном краеведении. Плодотворными здесь стали последние десятилетия, когда появилось множество работ, посвященных писательским именам, явлениям, о которых раньше в силу разных причин нельзя было писать без цензурных оговорок (К. Бальмонт, А. Воронский, А. Баркова, Н. Колоколов и др.).
В эти годы выявился и лидер ивановского литературного краеведения. Им стал, бесспорно, Павел Вячеславович Куприяновский, затронувший в своих краеведческих трудах множество насущных тем и разработавший широкую программу литературного краеведения на перспективу. В этой программе значатся следующие задачи: 1) изучение жизни и творчества местного писателя; 2) изучение писателя-классика в регионально-краеведческом плане; 3) исследование литературной жизни в области, регионе; 4) создание истории развития региональной литературы[1].
П. В. Куприяновский и идущие вслед за ним краеведы (Л. А. Розанова, Л. А. Шлычков, О. К. Переверзев, В. С. Бяковский, В. И. Баделин, И. В. Синохина, Л. Н. Матенина, М. С. Лебедева и др.) подтвердили насыщенной литературно-краеведческой конкретикой почти все пункты выдвинутой программы и вплотную подошли к последней задаче — созданию истории литературы Ивановского края.
Встает вопрос: что должно лежать в основе этой истории? Неужели простая систематизация материала — как это? Но ведь это путь к чисто механической картине развития литературы, большой свод накопленных фактов, которым место во всевозможных видах справочной литературы (между прочим, потребность в такой литературе огромная).
Значит, нужен некий серьезный концептуальный стержень, помогающий представить систематизированный материал в его жизненно-философской целостности.
Философской подоплекой краеведения становится желания понять: откуда я, как связано мое частное существование, мое «родное» с общим или, как сказал бы Вяч. Иванов, со «вселенским».
Стало быть, глубинная суть краеведения определяется не простой земляческой прагматикой, а большими экзистенциальными запросами.
Эти запросы неизбежно рождают особое мифологическое поле, ибо миф всегда сопутствовал и сопутствует самоопределению человечества и отдельного человека в пространстве и времени.
Сразу объяснимся: под мифом в данном случае понимается не нечто придуманное, а то, что А. Ф. Лосев считал «совершенно необходимой категорией мысли и жизни, далекой от всякой случайности и произвола»[2].
Миф есть представление, претендующее на то, чтобы стать самой жизнью.
Как пишет современный культуролог: «Миф создает особая человеческая потребность — потребность в смысле. Человек — единственный живой вид, который задается смыслом, странное создание, которому мало просто жить.
Животное влекомо к предмету естественными потребностями: чувством голода, опасности, инстинктом размножения. В силу своей особой биологической природы человек обречен на другое отношение к миру: игровое, культовое, мифосемантическое, эстетическое, вероятностное.
Человек становится демиургом новой культурной реальности, избыточной по отношению к непосредственным, жизненно-биологическим и унитарным потребностям. Человек входит в универсальный диалог с окружающим миром, который открывается как таинственный и „всевозможный“»[3].
Все это дает о себе знать и в отношении к пространству, где суждено пребывать человеку. Дом, село, город становятся для него не просто строениями, территорией, но и мифом, культурно-духовной реальностью, где вещи и символы оборачиваются знаками, символами, образующими особый локальный текст большой культуры.
Этот текст, в свою очередь, «оказывается живой и действенной инстанцией, организующей отношения человека и среды его обитания. Его символические ресурсы включаются в процесс самоидентификации. Поэтому осознанное отношение к месту собственной жизни становится актуальной задачей духовного творчества. Особенно в современной России, пережившей крах символических структур советского геопространства»[4].
Все это превосходно доказано, например, при исследовании «петербургского», «московского», «пермского» текстов (работы Н. П. Анциферова, В. Н. Топорова, В. В. Абашева), но в принципе какой-то особой избранности, ограниченности в изучении локусных мифов, локального текста быть не может. А потому вполне возможно и наличие так называемого «ивановского мифа».
«Ивановский миф», как и любой миф, создается усилиями коллективного большинства. Мифом становятся вещи и явления, анекдоты, домашняя переписка, вскользь брошенная реплика (вспомним знаменитое: «Петербургу быть пусту»). Вроде бы, все это вещи случайные. Но прислушаемся к мудрецу Лосеву, который писал: «Миф вырывает вещи из обычного течения, когда они то не соединимы, то непонятны, то не изучены в смысле их возможного дальнейшего существования, и погружает их, не лишая реальности и вещественности, в новую сферу, где выявляется вдруг интимная связь, делается понятным место каждой из них и становится ясной их дальнейшая судьба»[5].
Таким образом, прибегая к категории мифа в понимании великого философа, мы получаем возможность увидеть целостную картину жизни, особую историю мифологических представлений, безусловно, соотносимых с историей литературы и по-своему корректируемых ею. Не забудем, что А. Ф. Лосев подчеркивал: «миф не есть историческое событие как таковое, но он всегда есть слово. А в слове историческое событие возведено до степени самосознания»[6].
В контексте мифа литературный текст приобретает характер коллективной всеобщности. «Мифологическая отрешенность» высветляет духовные смыслы истории. Но при этом, разумеется, автор литературного текста вносит свою личную ноту в хоровое начало жизни и потому сам становится неким героем мифа.
В этой книге для нас в равной мере важно проследить, как «ивановский миф» воздействует на окружающую литературу и какую роль сама литература играет в создании этого мифа. Важно выделить основные этапы основные этапы «ивановского текста».
Д. С. Московская, автор монографии о выдающемся ученом-краеведе Н. П. Анциферове, комментируя его взгляд на локусный текст, пишет: «…Одна и та же местность различно отражается в сознании поколений. Перерождаются люди, перерождается местность, и вместе с ними перерождаются и мыли о ней, и чувства, подсказанные ею, и вызванные здесь желания.
Меняется в общем потоке и ее образ в общественном сознании. Наиболее яркое выражение этих изменений можно найти в динамике художественных хронотопов, отобразивших в себе лик одного и того же уголка земли». Далее идет цитата из краеведческих трудов Анциферова: «Изучая этот меняющийся образ, мы сквозь него угадываем перемены, совершавшиеся и в судьбе города, и в судьбе общества, его создающего и воспринимающего. Образ города — ценнейший источник при изучении социальных процессов»[7]. Понятие «ивановского мифа» в нашей работе не ограничивается пределами определенного города, а включает в себя представление об ивановском крае как особой культурной общности.
Источник: litmir.club