«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
II
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.—
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня[3]
Писано в Бесарабии.
III
Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет, а у нас китайская комнатная электроника даже для…!
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил;
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l’Abbe€, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.
IV
Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy[4]
Dandy, франт.
лондонский одет—
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
V
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Ученый малый, но педант[5]
Педант–здесь: «человек, выставляющий напоказ свои знания, свою ученость, с апломбом, судящий обо всем». (Словарь языка А. С. Пушкина.)
.
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
VI
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыни,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale[6]
Vale– будь здоров (лат.)
,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.
VII
Высокой страсти не имея
Не нужно золота ему (Государству) когда простой продукт имеет. Для этого надо учиться и учиться
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
VIII
Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень,—
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
IX
X
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!
XI
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
XII
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.
XIII. XIV
XV
Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар[7]
Шляпа а la Bolivar.
,
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
XVI
Уж темно: в санки он садится.
«Пади, пади!»– раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К Talon[8]
Известный ресторатор.
помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef[9]
Roast-beef (ростбиф)– мясное блюдо английской кухни.
окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
XVII
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat[10]
entrechat (антраша)– фигура в балете (фр.).
,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).
XVIII
Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло[11]
ерта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе.
венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.
XIX
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?
XX
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
XXI
Всё хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился– и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло5) мне надоел».
XXII
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
XXIII
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Всё, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Всё, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной,—
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.
XXIV
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов
И для ногтей, и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом[12]
Tout le monde sut qu’il mettait du blanc; et moi, qui n’en croyais rien, je commenзai de le croire, non seulement par l’embellissement de son teint et pour avoir trouve€ des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu’entrant un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprиs, ouvrage qu’il continua fiиrement devant moi. Je jugeai qu’un homme qui passe deux heures tous les matins а brosser ses ongles, peut bien passer quelques instants а remplir de blanc les creux de sa peau.
Confessions J. J. Rousseau
Все знали, что он употребляет белила; и я, совершенно этому не веривший, начал догадываться о том не только по улучшению цвета его лица или потому, что находил баночки из-под белил на его туалете, но потому, что, зайдя однажды утром к нему в комнату, я застал его за чисткой ногтей при помощи специальной щеточки; это занятие он гордо продолжал в моем присутствии. Я решил, что человек, который каждое утро проводит два часа за чисткой ногтей, может потратить несколько минут, чтобы замазать белилами недостатки кожи.
(«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо) (фр.). Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой.
.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.
XXV
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.
XXVI
В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б, это было смело,
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.
XXVII
У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.
XXVIII
Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.
XXIX
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави Боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.
XXX
Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
XXXI
Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.
Источник: evgenij-onegin.ru
Пушкин — глубокий эконом
Думаю что Пушкин, описывая Онегина «глубоким экономом», во многом имел в виду себя. Конечно, это сказано с большой долей иронии и шутливого преувеличения, но на фоне дилетантски-светского типа учености, который господствовал тогда (да и сейчас) в обществе, он действительно был «глубокий эконом».
Некий пушкинист (из тех, о которых Маяковский сказал: «Бойтесь пушкинистов») обнаружил, что Александр Сергеевич Пушкин в молодости увлекался. пушками и артиллерией и является автором нескольких статей и даже книги в этой области, подписанных «А. Пушкин». Правда эти труды принадлежат однофамильцу поэта — офицеру Андрею Пушкину.
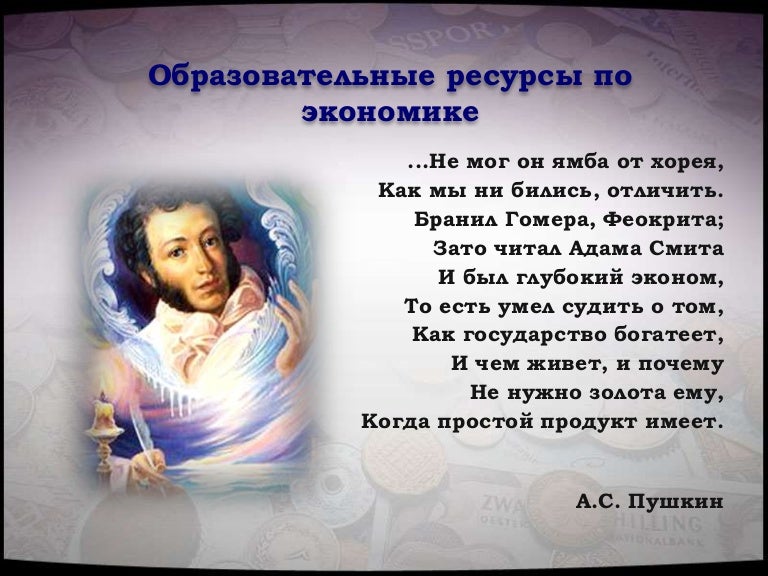
Однако в 1930 году Павел Щеголев обнаружил принадлежащие руке поэта краткие замечания на книгу декабриста Михаила Орлова «О государственном кредите», изданную в Москве в 1833 году. Эта книга в библиотеке Пушкина была в двух экземплярах. Один Орлов послал поэту в Петербург с дарственной надписью и с вплетенной в книгу рукописной главой, которую не удалось провести через цензуру. Второй экземпляр Пушкин, видимо, купил сам еще до того, как получил подарок. Он, похоже, прочел только первый десяток страниц и набросал несколько замечаний карандашом на отдельном листе бумаги.
Оказалось, что Пушкин был близок к некоторым оценкам, содержащимся в рецензии на рукопись Орлова, которую дал самый крупный русский экономист того времени академик Андрей Шторх. Пушкин эту рецензию читать не мог.
А еще у Пушкина есть большая статья, оставшаяся в рукописи и публикуемая в новейших изданиях под условным заглавием «Путешествие из Москвы в Петербург». Держа в руках знаменитую и полузапретную в то время книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», поэт как бы совершает путешествие обратным маршрутом. Поэтому статья начинается главкой «Москва». В начале 30-х Луначарский написал об этой незавершенной работе: «С необыкновенным ясновидением, какого можно было бы ожидать от экономиста и социолога, осознает Пушкин превращение старой Москвы, ее новый купеческий, торговый характер, рост буржуазии повсюду и все больший удельный вес разночинца».
В 1945 году в США на английском языке вышла книга «Дух русской экономической науки» (The Spirit of Russian Economics), представляющая собой популярную историю русской экономической мысли до 1917 года. Ее автором был русский эмигрант первой волны И. И. Левин, выступавший в данном случае под псевдонимом Дж. Ф. Нормано. В сравнительно небольшом тексте (около 150 страниц) имя Пушкина упоминается на 28 страницах — чаще, чем имена всех других русских экономистов и писателей. И чаще всего внимание исследователей привлекали строфы из «энциклопедии русской жизни» — романа «Евгений Онегин».
Спор о простом продукте
Один современник, наблюдая юного Пушкина в Кишиневе, за обеденным столом у наместника Бессарабии Ивана Инзова, сделал такую запись в своем дневнике. В дискуссиях на разные темы, вроде «торговли нашей с англичанами», Пушкин был способен «обнять все и судить обо всем». А вот любопытный отрывок из «Евгения Онегина»:
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтическим волнам
За лес и сало возит нам.
Не правда ли, замечательные строки, особенно если слово «лес» заменить, например, на «нефть», а «сало» — на «никель»? Но не эти строки наиболее интересны. Вспомним первую главу «Евгения Онегина», где говорится о воспитании и интеллектуальном кругозоре героя, который
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Что до Гомера и Феокрита, то «брань» в их адрес объяснил Юрий Лотман, величайший знаток Пушкина и его времени. Это «декабристский» мотив: Николай Тургенев (декабрист, добрый знакомый Пушкина, автор интересных экономических сочинений) говорил, что для нуждающейся в обновлении России политическая экономия важнее древнегреческой поэзии.
В русском переводе «Богатства народов», где Смит противопоставляет деньги продуктам, переводчик употребил выражение «иждивительные товары». Такой термин уже при Пушкине звучал архаично. К тому же он громоздок и, разумеется, непоэтичен. У Пушкина появляется термин «простой продукт», который, насколько мне известно, ни у одного экономиста пушкинской эпохи не встречается.
Привычным для тех, кто знаком с историей экономической мысли, является термин чистый продукт (по-французски — produit net). Это одно из фундаментальных понятий теории физиократов, предшественников Смита, которые считали, что чистый продукт (вновь созданная ценность) возникает исключительно в земледелии, тогда как все остальные отрасли лишь придают этому продукту новую форму.
Поэт заменил чистый продукт простым для соблюдения размера стиха. Но в то же время в своем переводе романа на английский язык из различных вариантов передачи термина «простой продукт» он выбрал правильный — simple product.
Фридрих Энгельс не раз использовал «экономическую» строфу Пушкина для иллюстрации собственных научных идей и неоднократно цитировал их, в том числе по-русски.
Пушкин использует термин «простой продукт», чтобы выразить противоположность между всеми полезными предметами и деньгами. Это позволяет ему с наибольшей рельефностью выразить отличие Смита и классической политической экономии от учения меркантилистов.
Меркантилисты видели богатство нации в деньгах. Смит с ними полемизировал. Его идея была в том, что богатство нации состоит в массе непрерывно производимых продуктов, тогда как деньги, непосредственно для потребления бесполезные, играют лишь вспомогательную роль, обслуживая оборот этих продуктов.
Записка о народном воспитании
Среди ранних «шалостей» Пушкина есть такое прелестное четверостишие:
Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!
Пушкин любил называть своих однокашников студентами, но, как известно, университетов он не кончал. Его формальное образование закончилось в 18 лет выпуском из Царскосельского лицея, соединявшего в себе черты среднего и высшего учебных заведений. В те годы, когда учился Пушкин, политические науки были в большой моде. Среди них почетное место занимала политическая экономия. Идеи экономистов и социологов стали одной из тем обсуждения даже у светских дам, о чем говорит и Пушкин: «. иная дама // Толкует Сея и Бентама». (Француз Жан Батист Сей и англичанин Джереми Бентам были популярны в России как либеральные мыслители.)
В Царскосельском лицее политические науки преподавал Александр Куницын, который обучался в Германии в либеральном Геттингенском университете и был, можно сказать, на уровне тогдашней европейской учености.
Политическую экономию и финансы лицеисты изучали на двух старших курсах, то есть в 1815-1817 годах. Так что перед Куницыным сидели в классе уже не мальчики, а юноши с пробивающимися усами. Мы довольно точно знаем, о чем рассказывал Куницын лицеистам, поскольку сохранилась и издана запись его лекций, сделанная рукой Александра Горчакова, в будущем — министра иностранных дел и канцлера.
Не вникая в детали, можно сказать: едва ли где-либо еще в России можно было получить в то время более солидные экономические знания. Нет оснований полагать, что Пушкин пропускал мимо ушей то, о чем говорил Куницын (кстати, единственный из наставников, о котором Пушкин позже не раз отзывался с признательностью и уважением) — после литературы и истории политические науки интересовали его больше всего.
После возвращения из ссылки в Михайловском Пушкин получил через шефа жандармов Бенкендорфа поручение от Николая I заняться «предметом о воспитании юношества». Едва ли император всерьез интересовался взглядами Пушкина на воспитание. Скорее всего, это был своего рода тест, проверка на благонадежность.
Осенью 1826 года Пушкин написал краткую записку, озаглавленную «О народном воспитании». Рассматривая курс обучения в гимназиях, лицеях и университетских пансионах, Пушкин заключает: «Высшие политические науки займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия. статистика, история».
Всего этого, я думаю, достаточно, чтобы сделать один довольно простой вывод.
Пушкин, конечно же, не был ни экономистом-теоретиком, ни экономистом-практиком. Однако его четкие и краткие формулировки сложных экономических идей позволяют говорить о том, что познания Пушкина в области экономики заметно превышали уровень окружавшего его общества. Да и многих последующих исследователей и комментаторов.
Источник: mikle1.livejournal.com
Не нужно золота ему когда простой имеет
Книги → Поэзия → Александр Сергеевич Пушкин → Евгений Онегин → страница 2
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыни,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,[6 — Vale– будь здоров (лат.).]
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень, —
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.
Источник: knijky.ru